
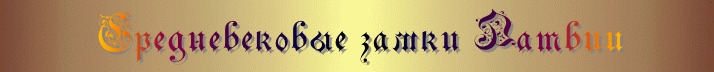
 |
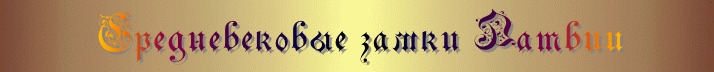 |
|
| Йозеф Лортц, “История церкви” (фрагменты) | ||
|
От автора сайта : вашему вниманию предлагаются отрывки из книги Й. Лортца, демонстрирующие отношение католической церкви к следующим вопросам:В целом книга Лортца представляет собой огромный труд, посвященный различным аспектам христианства и католической церкви с момента их зарождения до наших дней. Интересующиеся могли ознакомиться с полным текстом здесь: http://www.krotov.org/spravki/persons/20person/lortz.html О Йозефе Лортце, авторе“ Истории церкви” Йозеф Лортц (Joseph Lortz), немецкий иезуит из Мюнстера, авторитетный специалист по периоду Реформации в середине 20 в. (т.н. "лорцевская" школа католических специалистов по лютеранству). Впервые осмелился назвать Лютера "глубоко религиозным человеком" (за ним - папа Иоанн Павел II ). Идейно был близок идее нацизма - но большого авторитета в светских кругах не имел. Упомянут в книге: Betrayal: German Churches and the Holocaust, edited by Robert P. Ericksen and Susannah Heschel. Minneapolis: Fortress Press, 1999. 223 pp. как пример слабости католиков перед Гитлером. Он открыто поддерживал режим вместе с Карлом Адамом из Тюбингена, которому нравился антисемитизм Гитлера и его методы управления государством. Лишь после папской энциклики 1937 г. изменил свои взгляды, но никогда не признавал левое движение в политике. О романском стиле § 46. Христианское искусство. Романский архитектурный стиль 1. Церковь принесла западным народам христианство, она познакомила их с древней культурой. Сочетание этой культуры с реакцией молодых народов, качественно очень разной, имевшей место в разное время, в разных областях, постепенно привело к образованию собственной разнообразной культурной жизни средневековой Европы. Первым плодом, взращенным на этих корнях, был романский художественный стиль. В самом названии выражается его связь с античным римским искусством; но оно не означает, что этот стиль возник в латинских странах. Напротив, и в духовно-душевном, и в географическом отношении его происхождение было германским, но на почве римского наследия. Элементы романского стиля еще во многом зависят от римского искусства (ср., например, один из многих памятников этого стиля — кафедральный собор в Трире). Если, как это делается сейчас, считать одной из предварительных ступеней каролингское и оттонское искусство, нужно назвать еще и значительные сирийские и восточные византийские влияния (Равенна и Сполето; книжная миниатюра; каталонская библейская живопись). Речь идет по преимуществу о церковном искусстве. С точки зрения истории стилей, произошло удаление от христианской античности; в церковной архитектуре это означает уход от базилики. Романское искусство возникает как таковое только в конце тысячелетия, когда относительно мирные времена благоприятствовали созданию значительных архитектурных сооружений, а религиозные убеждения и церковное сознание в целом были достаточно сильны, чтобы выразиться в крупных, исторически значимых архитектурных формах (с соответствующей живописью и убранством). В своей основе оно представляет собой обобщение и самостоятельное развитие уже известных и высоко ценимых мотивов. Но, как уже говорилось, здесь действовал и создавал новое творческий гений молодых германских народов. Однако плоды этого творчества, еще проникнутого духом раннего вненационального Запада, мы находим во Франции и Италии, так же как и в Германии. В церковной архитектуре Италия дольше оставалась на стадии базилики, а затем быстро перешла через романский стиль в Ренессанс. В Центральной и Северной Франции развитие быстро привело к готике. Своеобразным отражением расстановки душевно-духовных, церковных и церковно-политических сил классический романский стиль стал в Германии, особенно в Рейнской области (нужно вспомнить еще и великолепные постройки Гарца). В развитии этого стиля на первом месте оказался народ, последним завоеванный для христианской веры, - саксы; крупные соборы, включая Вормс, Аугсбург, Бамберг построены саксонскими князьями. 2. Новый стиль постепенно развивался. Первым этапом было каролингское, пока еще не чисто местное искусство. Уже тогда в основание церковного здания была положена форма римского креста. Окончательно оформился этот стиль только тогда, когда апсида, ранее примыкавшая к поперечному нефу, была перемещена к востоку: центральный неф, который пересекается поперечным нефом. Внутренняя структура теперь стала основываться на форме креста. Облик самого нефа полностью изменяется за счет того, что приблизительно с 850 г. массивные опоры прерывают ряд античных колонн (очень дорогих) (таким образом, естественно, прерывается литургически ориентированная направленность к алтарю: первые признаки разделения элементов, в будущем самостоятельных, но пока еще остающихся в несомненном единстве). Башни уже не стоят рядом с основным строением, но органически включаются в него, затем их формы и композиция становятся все более богатыми. Благодаря этому и благодаря четырехэлементной структуре здания к горизонтальному развитию прибавляется вертикальная линия движения. Как интерьер, так и наружная часть здания становятся существенно более громоздкими; появляются большие плоскости, что создает возможность для богатой орнаментации. (Часто возникают целые комплексы: монастырь Рейхенау; двойная Церковь в Шварцрайндорфе; капелла Всех святых в Регенсбурге.) Иногда снаружи зданию придает особую роскошь галерея апсид. Окна, порталы, перемычки опор образуют полуциркульную арку; она же характеризует забытый в переселение народов и вновь возрождающийся свод; он заменил собой плоскую деревянную крышу старых базилик (впрочем, имеется целый ряд прекраснейших романских церквей с плоской крышей). Под апсидой располагались (уже с каролингского времени) крипты разнообразной формы. Двойной хор, унаследованный от каролингско-оттоновской базилики, получает дальнейшее развитие. Благодаря западному хору был ослаблен до тех пор преобладающий сдвиг на восток. Во время высокой романики иногда даже встречается обратная ориентация (св. Михаил в Хильдесхайме). Последние радикальные преобразования в структуре и отделке внес св. Бернард, давший строгие предписания, согласно которым из монастырских церквей его ордена (не вообще из всех церквей) изгонялись любая красочность и то, что по видимости служило только украшению и что в церквях разбогатевших клюнийцев разнообразно поощрялось. Так, духу бедности и молитвы удалась удивитель ная редукция, которая свела все к самому существу получившего форму пространства и невероятно быстро и убедительно пришлась по вкусу. Влияние цистерцианцев на церковную архитектуру было огромным. Целый мир культового благовествования сосредотачивается со времени романского строительства над и возле порталов или в нартексе (уже поздний “Рай” домского собора в Мюнстере, статуи которого датированы после 1225 г.). Общее воздействие как внешнего облика, так и полутемного интерьера исполнено мощной, тяжеловесной и откровенной объективности и монументальности; но также и величественной горечи особого рода и таинственной суровости (но мир также был сюда включен), которая так хорошо подходила к формально античному и внутренне мистическому типу литургии и равным образом к сдержанному самообладанию германцев перед божеством (весьма важное отличие от более интимной манеры поздних романцев). Эта сдержанность, успокоенность в самом себе, неполная открытость, в известном смысле вневременность некогда — в великолепных готических кафедральных соборах, творениях намного более эмоционального времени — уступят место наступательной, одухотворенной подвижности: динамика против статики. (Вообще-то разнообразные упомянутые особенности наиболее отчетливо были осознаны как отличительные черты романского стиля, когда рядом с ним предстало своеобразие готического архитектурного стиля; впрочем нельзя упускать из виду, что уже в романской архитектуре сильное чувство жизни не только изображало покой, но и выказывало определенное напряжение, см. § 60.) Характерные для романского стиля своды имели своеобразную привлекательность высокого достоинства и особенной гармонии. Они производят огромное впечатление, например, в Золотых вратах домского собора во Фрайберге, панораме хоров храма св. Апостолов в Кёльне, в великолепных пересекающихся и перекликающихся друг с другом с противоположных сторон круговых линиях пространства восточной апсиды домского собора в Шпайере. 3. Примеры значительных романских церквей, которые первоначально между 1000 и 1250 гг. во множестве наполнили Европу: Гернроде, Остероде, Св. Михаил в Хильдесхайме (таким образом, впереди родовые области саксов), домские соборы в Трире, Майнце, Бамберге, Лимбурге, Шпайере, Вормсе; аббатская церковь в Мариа-Лаах; двойная церковь в Шварц-Райндорфе (с ценной романской росписью); множество церквей в Кёльне и Мюнстере, Зёсте, Эссене, Ксантене, Гандерсхайме, Фрекенхорсте. Для Франции: множество галло-романских построек на юге страны; Клюни; Везле; в Париже Сен-Дени; Сен-Сернен, Тулуза; Сент-Этьен, Каэн; Испания: частично Сантьяго-де-Компостела; Англия: кафедральный собор в Петерборо; Италия: Сан-Зено, Верона; Сант-Амброджо, Милан; домский собор в Модене. 4. Искусство миниатюры, происходившее в разной манере из скрипториев монастырей (и только из них), с одной стороны, является только ремесленной иллюстрацией. Однако, с другой стороны, оно демонстрирует художественные достижения первого ранга. Уже комбинации линий и сплетений у ирландской школы неисчерпаемо. Рядом стоят изображения библейских сцен и видений, дающие впечатление монументальности и уверенности форм и доказывающие удивительное душевное богатство и мощное преодоление задач внешней декоративности. Мотивы сплетений вновь в неисчерпаемом богатстве находятся также и в тогдашних скульптурах на капителях и базах колонн или в бронзовом литье. Общий эффект еще более усиливается благодаря скульптурным украшениям пространства и литургическим принадлежностям: подставки для крестов, опоры алтарей, реликварии, чаши и бронзовые двери (ср. Bernward). Изображения Распятого в дереве и камне с их впечатляющей глубоко религиозной монументальностью принадлежат к самым значительным произведениям, которые когда-либо вообще создавались искусством. Если задуматься, насколько в общем скудно запечатлелось исходное глубокое содержание христианского провозвестия (ведь уровень, достигнутый при Карле Великом, не был удержан), то также и эти достижения демонстрируют, насколько глубоко в отдельных областях провозвестие веры захватило германский народ. Соприкосновение с божественным оказывается во многих случаях исключительно интенсивным, исполненным благоговения, но также и благоговейной задушевности. Удивительная, даже невероятная глубина воздействия христианского провозвестия на душу молодых германо-романских народов, как она впечатляюще и трогательно задокументирована в романском искусстве, должна быть во всей своей значительности принята во внимание при анализе раннего церковного средневековья (особенно в его последний период); она является важной компенсацией за множество не- и недохристианского, о чем мы уже говорили. О готическом стиле § 60. Готика 1. Представление о самосознании времени можно получить непосредственно (хотя и не всегда вполне однозначно), изучая его искусство. Мы знаем, сколь сильно западный интеллект выражал себя уже в романском стиле (§ 46). Но в этом искусстве еще доминировали элементы стиля и чувство формы эпох, предшествовавших средневековью. Когда западная духовная жизнь созрела и обрела независимость, она создала самостоятельный язык искусства - готику. Хотя этот стиль органически вырос из романского, он все же был нов как выражение нового состояния сознания, равно как и нового способа чувствования и выражения в художественно-формальной сфере. Естественно, что искусство высокого средневековья как выражение культуры своего времени было, прежде всего, религиозным и церковным. Поэтому наиболее отчетливо оно проявляет себя в церковном строительстве, в готических соборах (и их скульптурных изображениях). В них отражаются самые сильные стороны религиозности XIII в.: сила веры, развитое религиозное сознание, ясность мысли, духовность, дерзновение. Смысловому единству стиля сопутствует ярчайшая индивидуальность форм выражения (особенно в скульптуре). Очень важно обратить внимание на следующее: в ходе духовного созревания, конечно, недостижимо полное равновесие всех сторон отражения действительности, захватывающее нас в романском стиле. Волнующая проникновенность неизбежно должна рождать вопросы, все испытывающие сомнением. Это справедливо и для великолепного взлета готики. 2. Готический стиль в архитектуре, как и вообще развитие средневековой жизни, подчинен стремлению к синтезу. В романском стиле тяжесть и статичность зданий была обусловлена прочностью толстых, массивных и, соответственно, с трудом пробиваемых стен. Прочность здания сосредотачивается теперь в отдельных элементах его конструкции. Свод и опоры теряют статичные очертания, превращаясь в динамичный круговорот сил, поддерживающих друг друга. Архитектор мыслит строение как организм, выросший из одной зародышевой клетки. Благодаря этому готовое здание производит впечатление окрыленно стремящегося ввысь. Отдельные элементы и тематические группы образуют множество соотношений и пересечений, соединенных в контрапункт, который со временем (к XV в.) усложнится, превращаясь в почти барочное многообразие форм. Готические кафедральные соборы в своей логической завершенности являются в искусстве эквивалентом теологических сумм и вместе с ними служат действенным выражением совершенно освобожденной, активной и вместе с тем успокоенной взволнованности этих необычайно оживленных столетий. Их устремленность к небу, порыв и невесомость, очарование их внутреннего облика, где солнечный свет падает сквозь витражи “мистических” роз и окон, окрашиваясь таинственно воспламеняющимися красками, абсолютно соответствует средневековому смыслу погруженных в Бога молитв. В стремлении к существенной динамичности знаменательно выражается попытка по-новому овладеть тем, что до тех пор пребывало в несомненной естественности. Среди скульптуры высокого средневековья есть замечательные работы, например портреты епископов, чей утонченный, устремленный ввысь облик обращен к “горнему свету”; это и те, кто, кажется, скорбно удручен и вопрошает, и другие (как колонна ангелов в кафедральном соборе Страсбурга), в ком выражается взволнованность неисчерпаемой хвалы, приносимой Богу. В готике разнообразно выражается новое восприятие природы, мира и жизни, которое, основываясь на реальности жизненного опыта, отказывается от аллегоричности романского стиля. 3. а) Сосредоточение нагрузки на элементах конструкции церкви в отдельных точках имело непосредственным следствием дробление плоскости. При строительстве сводов это давало возможность выкладывать поверхности очень легкими и тонкими, что создавало впечатление невесомости и обеспечивало место для больших окон на боковых стенах. Давление распределяется от сводов и несущих нервюр наружу при помощи контрфорсов. Возникшие чисто конструктивно и как таковые исполненные в ранней готике аскетичной красоты логики, контрфорсы приобрели необычайно привлекательные и для общего облика характерные орнаментальные очертания. Иногда (как у хоров собора Нотр-Дам в Париже) они подобны мелодии, высеченной в камне. У башен появились устремленные ввысь ажурные навершия (во Франции и Англии в меньшей степени), увенчанные шпилем. Внутри здания появляются три или даже пять нефов. Чаще всего боковые нефы ниже, чем центральный (при одинаковой высоте: зальное пространство). б) Порталы, контрфорсы и интерьер имеют богатые, со временем все умножающиеся скульптурные украшения. Их необозримое, трудное для восприятия количество оправдано лишь в период, когда большая часть ремесленников действительно творили своими собственными руками, т. е. были художниками, каковую задачу тогда еще значительно облегчала прочная традиция, которая обеспечивала им надежную опору как на внутренние ценности, так и на художественные каноны. Наряду с определенным смысловым ядром сохранившийся художественный запас скрывает в себе замечательное изобилие первоначальных достижений. Их художественное своеобразие обусловлено: (а) формально - тем, что они созданы непосредственно для определенной конструктивной части (ниша в портале, перед колонной; перед узким столбом между двумя дверями; группировка рельефа над порталами), т. е. в определенных архитектонических рамках; изъятые с предназначенного каждому места (сегодня самые ценные образцы часто перенесены в музеи), они теряют часть своего художественного и религиозного воздействия; (б) содержательно - взволнованной одухотворенностью, которая, надо заметить, постепенно (в XIV и XV вв.) перешла от исходной суровой силы к истинному упоению движением, формой и чувством (вплоть до сентиментальности). Украшению этих домов Божиих служат витражи окон, освещающих нефы, и “роз” над главным и боковыми порталами. Тайну силы света этих картин из стекла с их уникальным законом стиля мы в некоторой степени начинаем открывать лишь сегодня. 4. Готика возникла в Северной Франции, где церковная реформа рано пустила корни (Иль-де-Франс; первое готическое церковное здание в Сен-Дени). Особенно ценными памятниками готики являются Сент-Шапель и Нотр-Дам в Париже, церковь св. Уэна и кафедральный собор в Руане; домские соборы в Шартре, Амьене, Фрайбурге, Страсбурге, Ульме, Вене, Кёльне (в значительной части только с ХIХ в.), Вестминстерское аббатство в Лондоне, кафедральный собор в Солсбери. а) Название “готический” возникло во времена Ренессанса, когда люди не понимали этих чудес строительного искусства, и хотели уничтожить их как варваризм. Теперь в готике мы видим одно из ценнейших созданий художественного гения человечества. Часто не замечают при этом одно само собой разумеющееся обстоятельство: эти творения по существу являются созданием именно католического церковного духа. б) Можно лишь в общих чертах говорить о том, что привнесли в религиозное воспитание Запада готические кафедральные соборы своими статуями, неустанно повествующими о священной истории Ветхого и Нового Завета, витражами и барельефами, и сколько силы веры и любви к Богу выразила жертвенная воля, с которой все сословия содействовали строительству, с которой работали тысячи часто неизвестных и плохо оплачиваемых тружеников. в) Готическое искусство в определенной мере было выражением нового общинного (а также мирского) духа. Уже сам факт большого числа занимающихся искусством мирян должен был этому способствовать. Об этом говорит и обилие гротеска, открывающегося попутно в скульптуре контрфорсов, водостоков на крышах, престола в хоре и т.д. Важным доказательством появления светских мотивов является одна из значительнейших скульптурных работ немецкого средневековья: фигуры донаторов в хоре наумбургского домского собора, где на месте апостолов, св. епископов, мучеников и праведников стоят исключительно светские лица, могущественные военачальники и дамы, полные величественного очарования, а рядом с ними даже убийца (по поводу аналогичной трансформации в литературе ср. § 56). § 49. Крестовые походы С григорианской реформой христианско-церковное сознание Запада пробуждается в полную силу. В фигуре Григория VII, властвовавшего над своей эпохой и определившего ее, это сознание достигло вершины церковной жизни. Теперь же оно, в силу своего внутреннего импульса, начало порождать великие свершения во всех областях жизни: служение идее крестовых походов сплотило и объединило вокруг себя рыцарское общество; одновременно св. Бернард формирует новый тип личной набожности как результат обновленного монашеского идеала цистерцианцев; западный гений начинает широко претворять полноту и гармонию церковно-христианского достояния в формы ранней схоластики и ранней готики. Все это возвещает эпоху расцвета средневековья. О цистерцианском монашеском ордене и св. Бернаре Клервоском § 50. Внутренний рост христианства. Св. Бернард Клервоский. Цистерцианцы 1. В Риме борьба между партиями знати не была закончена. После смерти Гонория II (1124-1130), папы, происходившего из рода Франжипани, кардиналы - сторонники этого рода интронизировали без соблюдения установленного порядка Иннокентия II (1130-1143), человека очень церковного. Однако большинство законным образом избрало честолюбивого, высокоодаренного Анаклета II из богатой, иудейского происхождения, семьи Пьерлеони. Не последнюю роль при этом играли деньги; Рожер Сицилийский (бывший его зятем) принял его сторону. Иннокентий II бежал во Францию (как прежде Геласий II, 1118/1119 г.). Решили дело на этот раз харизматические силы Церкви: Бернард Клервоский, Петр Достопочтенный Клюнийский и Норберт Ксантенский вынесли решение в пользу Иннокентия. Канонические определения по сравнению с этим очевидно имели мало веса; Анаклет предложил решить вопрос о двойном избрании судебным порядком; но Иннокентий, по совету Бернарда, отказался в этом участвовать: никакой специальный суд не имеет силы там, где весь христианский мир уже сказал свое слово. Во всяком случае, в 1130 г. вся Франция и Германия, а затем и Англия, Испания и некоторые области Италии были на стороне Иннокентия. Король Лотарь сопроводил его в Рим и был коронован им в Латеранской базилике (поскольку Анаклет еще оставался в замке св. Ангела и в квартале Леонина (с базиликой св. Петра)). Король принял от папы Матильдины владения в ежегодную аренду и взял на себя маршальское служение. Так возникла версия курии: император - ленник папы. Такое понимание нашло отражение в сюжете одной из картин в Латеранской базилике, снабженной соответствующей надписью. Несмотря на две серьезные попытки сопротивления, Бернард в конце концов добился утверждения Иннокентия. Единство было восстановлено после внезапной смерти Анаклета в 1138 г. и закреплено на X Вселенском соборе в Латеране в 1139 г. 2. После того как папа сделался сувереном и вплоть до Нового времени, одной из постоянных сложностей было то, что Церковное государство вынуждено было искать себе для защиты союзников, а затем обороняться от этих, становящихся слишком опасными, защитников. III. Цистерцианцы Остальные новообразованные монастыри (такие как в Тироне или Савиньи) оставались в рамках традиционного монашества и имели целью его обновление. Сюда относится и реформа, которая началась в “новом монастыре” в пустыни Сито (1098 г.) близ Дижона и которой предстояло превзойти своей плодотворностью все другие преобразова тельные движения и лечь в основу ордена цистерцианцев св. Бернарда Клервоского. 1. Вначале движение существенно не выделялось на обрисованном выше фоне. Это относится прежде всего к деятельности его первооснователя, св. Роберта. В его неуверенных попытках реформы можно различить как стремление к совершенству, так и беспокойство и неопределенность, свойственные начальным шагам. Побывав во главе нескольких уже существующих монашеских общин, он создал новую общину и перевел ее в Молезм (в области Кот д'Ор). В 1090 г. он оставляет быстро ставшее процветающим аббатство, чтобы снова бежать в пустынь (близ Окса). Молезмским монахам через несколько лет удалось вернуть своего святого аббата, но возвращение лишь ненадолго предварило его последний уход, которому мы в конечном счете и обязаны основанием Сито. Правда, сам оттуда он тоже ушел и (в результате посреднического вмешательства папы Урбана II) окончательно вернулся в свое старое аббатство с несколькими монахами, “не любившими пустыни”. 2. а) Таким образом, хотя Роберт и основал в пустыне “новый монастырь”, но то, что мы называем “Сито”, создано не им, а его преемниками, аббатами Альберихом и Стефаном Хардингом. Именно они с величайшей последовательностью осуществляли задуманную задачу. В центре внимания монахов Сито было не столько создание “нового”, требующего иных форм жизни, сколько “обновление” старого, давно утвердившегося в своей сущности состояния. Но консервативный характер цистерцианской реформы был залогом подлинного обновления: плодотворный спор с традицией и творческое приспособление всего существенного в ней к новой ситуации. Намек на это дан уже при уходе из Молезма. Причиной его был не упадок дисциплины и нравственности среди оставшихся. Речь шла о позитивной концепции самой природы монашества, которую, по мнению Роберта, невозможно было реализовать в рамках традиционных форм. Здесь заявляет о себе ощущение внутреннего противоречия между торжественно восхваляемым уставом и тем обычаем, которому следовали в ордене на практике (con suetudo; ср. § 47); или, говоря позитивно: потребность строго придерживаться “единственно верного пути (rectissima via) устава”, точно следуя его букве. б) Оппоненты, принадлежавшие к традиционному монашеству, обвиняли цистерцианцев в фарисейском легализме. Но по существу все было как раз наоборот. “Буква” со всей определенностью признается носителем Духа; слово - гарант первичной подлинности устава, а эта подлинность со своей стороны основывается на родстве с Евангелием. Пояснить вышесказанное лучше всего на примере того, какое огромное значение цистерцианцы придавали предписаниям Устава относительно всего, что касается тела (praecepta corporalia ). Монашество Клюни, апеллируя к “Духу” и “духовному”, игнорировало эти сравнительно менее важные и несомненно нуждающиеся в адаптации правила. В Сито они снова были вынесены на первый план, потому что здесь знали, какое значение имеет телесное для духовного. Одежда, пища, образ жизни монахов, их имущественное положение и порядок богослужения подлежат реформе, которая возвращает их к первоначальной строгости устава, но в то же время является действенной и жизнеспособной реорганизацией. Сито отказывается от церковных и феодальных источников дохода (т.е. от частного владения церквями, от пожертвований, платы за погребение и десятины, так же как от мельниц, сел и крестьян). Для вновь открываемых монастырей оно избегает близости городов, довольствуется тем количеством земли, которое они могут обрабатывать сами, чтобы кормить общину монахов и конверзов, а также бедняков. Тем самым реабилитируется физический труд с его двойной телесно-духовной функцией. в) Богослужебный круг был, наконец, возвращен в предписанные уставом рамки (полная служба цистерцианцев - без мессы и вечерни - короче, чем одно только богослужение первого часа в Клюни), что возродило ту первоначальную гармонию, которую мы вправе считать основой духовной плодотворности Сито. Соответственно, литургия была лишена пышности, а монастырская церковь - украшений. Но именно благодаря простоте архитектуры величие романского контура и красота организации церковного пространства проступают еще ярче. г) Реабилитированный сельскохозяйственный труд имел величайшее значение для Запада. Когда цистерцианцы из Франции распространились в Западную Германию, их монастыри стали развивать ту же основную деятельность. Новые поселения возникали в Центральной Германии, затем далее к Востоку вплоть до славянских земель. Земли между Эльбой и Одером и к востоку от них, населенные язычниками-вендами, получили от этих монастырей, представлявших собой образцовые хозяйства, как христианскую веру, так и культуру земледелия. Цистерцианцы первыми начали возделывать землю, корчуя лес и осушая болота, и поднимали благосостояние за счет усовершенствования сельскохозяйственных методов. д) Очерченная таким образом внутрицерковная реформа хорошо иллюстрирует парадокс христианского обновления жизни, которое часто включало в себя отказ от непосредственного результата ради чего-то высшего (зерно должно умереть, чтобы принести плод): акцент на физическом труде, отказ от всякой ученой деятельности как таковой, так же как и сокращение литургии привели отнюдь не к духовному и интеллектуальному оскудению, но к необычайно интенсивному подъему; пустыня превращается в пашню; реформа, начавшаяся как чисто религиозная, распространяется, не преднамеренно, но творчески, на хозяйственно-социальную структуру своего времени. е) О том, что монахи Сито не были слепы по отношению к новому, говорит и включение конверзов в их общины. Мы видим у них и двойную экземпцию Клюни, но искусно измененную: знаменательно, что здесь отсутствует антиепископский момент; епископская юрисдикция в принципе не исключалась. Только дальнейшее развитие привело к полной экземпции также и в Сито. 3. В духе этой умеренной адаптации выработан и цистерцианский устав, который регулирует связь отдельных монастырей с “материнским монастырем” и закладывает основу ордена цистерцианцев. а) Но до того, как англичанин Стефан Хардинг (1109-1133) в качестве третьего аббата смог взяться за выполнение этой задачи, Сито требовалась помощь иного рода. Ему были нужны люди, которые своей самоотверженностью и преданностью могли бы дать жизнь этим определенным уставом формам. Это произошло неожиданно и поистине чудесным образом, когда Бернард Клервоский и его родственники и единомышленники (среди них - четверо его братьев; самый младший из братьев был еще слишком юн, он присоединился позднее) попросили принять их в Сито. Если до этого “новому монастырю” грозила смерть от истощения, то теперь он являл собой зрелище непревзойденного изобилия. б) Уже через два года после поступления Бернарда в Сито он был послан для основания монастыря в Клерво. В том же 1115 г. были основаны другие более поздние головные аббатства (Ла-Ферте, Понтиньи и Моримон). Поскольку вслед за этим начали умножаться и дочерние аббатства, наступил момент объединить отдельные монастыри в “Орден”. С этой задачей образцово справился Стефан Хардинг. Устав, в основных пунктах созданный им, носит многозначительное название “Charta Charitatis”. Утвержденный в 1119 г. папой Калликстом II, он на деле соединяет в себе ясность конституции и связующую силу любви. Единственная цель этой конституции - обязать каждое отдельное аббатство жить по единому уставу, придерживаться одинаковых обычаев и таким образом хранить единство любви. Высшим органом надзора, управления и отчета является генеральный капитул всех аббатов, который ежегодно собирается в монастыре Сито под председательством отца-аббата. Однако у аббатств, согласно уставу, сохраняется их церковная, финансовая и административная автономия. Разумеется, отец-аббат должен ежегодно посещать дочерние монастыри. Этому соответствует право надзора аббатов четырех старших монастырей (помимо трех вышеупомянутых - еще Клерво) за дисциплиной в Сито. Дочерние монастыри не имели никаких финансовых обязательств по отношению к материнскому аббатству. Они только обещали посильно поддерживать обители, терпящие материальную нужду. Все это вместе взятое составило конституцию ордена, гармонически сочетающую в себе монархические и демократические элементы в духе устава св. Бенедикта. Она сохраняла все преимущества объединения, избегнув при этом централизма. Собственно говоря, важный опыт более тесного и регулируемого уставом объединения монастырей был уже частично осуществлен союзом Клюни и Гирсау. Но цистерцианцы первыми придали своему объединению черты ордена. в) Охраняемый столь удачной конституцией и имея такого святого, как Бернард Клервоский, новый орден “белых” монахов переживал необычайный подъем. Бернард лично активно участвовал в распространении ордена. Когда он скончался, орден насчитывал 343 обители, из которых клервоской ветви принадлежали 168 (68 из них основаны Бернардом!). После смерти Бернарда в его архиве было обнаружено 888 формуляров с обетами монахов, принесших их, когда он был аббатом. Страстным желанием святого было пробуждение в людях монашеского призвания, что он во время своих странствий осуществлял подобно настоящей рыбной ловле; при этом он был ужасающе неразборчив в средствах воздействия. В 1148 г. новициат Клерво насчитывает 100 новициев на приблизительно 200 монахов и 300 конверзов. К концу XII столетия цистерцианцы - почти 530 мужских и бесчисленное количество женских монастырей (последние достигли расцвета только в XIII в.) - заполонили весь Запад. г) Все это - объединенное девизом “назад к Уставу” - фактически означало серьезную критику клюнийской монашеской державы. Но это значило гораздо больше, чем направленная извне критика, скажем, богатства Клюни или практикуемых там различных способов обойти обет нищеты и умерщвления плоти. Уже то обстоятельство, что с 1122 по 1156 г. судьбой Клюни управляет человек такого личностного и духовного значения, как Петр Достопочтенный, и что в начавшемся великом литературном споре он выступает как противник св. Бернарда, несомненно свидетельствует о неизбежном столкновении двух идеалов, двух родственных и все же глубоко различных и даже взаимоисключающих трактовок бенедиктинского идеала монашества. IV. Бернард Клервоский Кто же этот человек, который, будучи прочно привязан к старому, создал так много нового в области монашества? Бернард - это одна из великих ключевых фигур средневековья, в особенности средневековой истории Церкви; поэтому вполне оправдан несколько более подробный рассказ о нем. 1. Родился в 1091 г. в семье знатного бургундского дворянина в замке Фонтен близ Дижона. Тщательное воспитание матерью и в монастырской школе. В 1112 г. вместе с тридцатью единомышленниками вступает в Сито. В 1113 г. - принятие монашества (professio). В 1115 г. послан в качестве аббата с 12 монахами для основания монастыря в Клерво. Многочисленные поездки (трижды в Италию, в том числе в Рим). Проповедует Второй крестовый поход во Франции, Фландрии и прирейнских областях. Большая проповедническая деятельность в своем монастыре и за его пределами; значительные богословские трактаты; литературная полемика с Клюни и с Абеляром. Имеющая важное значение переписка со всеми значительными личностями и инстанциями Европы того времени. Умер аббатом Клерво в 1153 г. 2. Как и в других сферах мысли и деятельности, поразительно широких по своему диапазону, в своем благочестии этот святой владел тайной быть одновременно представителем и старого, и нового (“nova et vetera”: Мф 13, 52). Особой заслугой Бернарда было то, что он, прочно укорененный в благочестии и образе мыслей древности, сформировал и развил в рамках поклонения Христу духовное и исполненное особого чувства поклонение человечеству Господа: “Суха всякая пища души, которая не приправлена Твоим елеем... Пишешь ты или читаешь, мне это не по вкусу, если не звучит Имя Иисуса”. Благочестие Бернарда включает в себя другую, возможно, более непосредственную мистическую духовность, устремленную к божественному Жениху, приходящему к душе стяжавшего благодать. Бернард выразил ее в своей в некотором отношении непревзойденной до сего дня проповеди на Песнь песней. Оба эти вида благочестия ни в коем случае не являются независимыми друг от друга. Напротив, поклонение человечеству Христа и его тайне целиком устремляет к вступлению души в брачный союз с Богом-“Словом”. Субъективно это сопровождается развитием более сильного чувства, влекущего сердце к совершенной высоте духовной любви (agape). 3. С другой стороны, для Бернарда религиозное почитание Девы Марии не соседствует с мистикой Иисуса, но внутренне включено в нее. Правда, позднейшие сочинения, ошибочно приписываемые Бернарду, преподносят его изолированно и утрированно (сюда уже относится великолепная характеристика святого у Данте). Подлинные проповеднические трактаты Бернарда никогда не посягают на уникальность Христа. Очень сильные формулировки, характеризующие Марию как посредницу между Христом и Церковью, полностью обосновываются неповторимостью посреднической миссии Христа, если только видеть их в контексте основной концепции Бернарда. Он говорит о Деве Марии как о посреднице, точно так же как о посредничестве апостолов Петра и Павла, св. Мартина или, прежде всего, св. Бенедикта. Если он славит Марию в особенно возвышенных выражениях, то именно потому, что находит в ней ту совершенную веру, которая выражается в абсолютном следовании Христу. Мария для Бернарда столь мало стоит вне человечества, что, превознося ее совершенно исключительным образом (царственная дева; удостоенная наивысших почестей; достохвальная носительница благодати; посредница спасения; заступница миру), он вместе с тем отрицает за ней непричастность первородному греху. 4. Другое достоинство благочестия св. Бернарда - его глубокая укорененность в святоотеческом учении, сокровище которого он приобретает для пользы духовной жизни. Позднейшее разделение духовности и собственно богословской науки ему чуждо; его богословие еще полностью посвящено служению духовной жизни. Несмотря на глубочайшую связь с традицией, он избегает опасности традиционализма. Он не передает того, что прежде сам не пережил и не пробудил к творческой активности. Его безграничное почитание Отцов Церкви не препятствует ему пить обильно, или лучше сказать в первую очередь, из того же источника, из которого черпали они - из Библии. Вероятно, во всей христианской традиции не найдется другого примера, когда Библия - и Ветхий, и Новый Завет - во всех ее частях, и в целом, и в частностях, вплоть до дословного текста и хода мысли столь полно, столь гармонично сроднила с собой дух человека, как это было с Бернардом. Поразительно, с какой настойчивостью библейские мысли и образы просятся к нему, и как они, даже там, где не дословно цитируются, слышны в одном предложении в той или иной связи по 2, 3, 4, 5 раз. Поэтому и его богословие сохранило нечто такое, чем более позднее (Абеляр, схоласты) уже не обладало, - тайну пророческого слова, которое непосредствен но свидетельствует высокие и суровые истины Откровения, не искажая их, но взаимно дополняя и уравновешивая: монашеское богословие, которое столь долго оставалось лежать невозделанным. 5. а) Мы неоднократно сталкивались с Бернардом как с участником великого григорианского реформаторского движения. Но и здесь сказалась его творческая самостоятельность. Он целиком поддерживает все цели григорианской реформы, но решительно идет дальше нее в том, что следует чисто религиозному импульсу. Бернард был привержен Церкви и папству. Но если он восстановил единство Церкви, победив схизму Анаклета, то, с другой стороны, он же распознал и, резко осудив, отклонил опасности куриализма, заложенные в некоторых централистских тенденциях реформы Григория. Он духовно осмыслил идею церковной власти, вторгающейся в политику. б) С 1145 по 1153 г. (т. е. в последние годы жизни Бернарда) папой был бывший цистерцианец, ученик Бернарда: Евгений III. Бернард преданно служил ему. С огромным воодушевлением он провозглашает уникальное значение власти папы, который призван не к частичному попечению (in partem sollicitudinis), как прочие епископы, но к полноте власти (in plenitudinem potestatis), и чья Церковь есть мать всех без исключения Церквей. Именно поэтому он отваживался открыто предостерегать папу от грозящих опасностей. Благочестие прежде всего! Он написал для папы книгу “О медитации”. Несмотря на всю необходимость заниматься политикой, молитва должна сохранить свое место в жизни папы. Такая крайне резкая критика была для Бернарда лишь видом служения. в) При этом он не довольствовался тем, чтобы лично указывать папе на его слабости и грехи или клеймить многочисленные недостатки Церкви и духовенства, в первую очередь папского двора. Его критика направлена дальше, на самые основы, хотя она, подобно пророческим обличениям, остается по преимуществу в области практики и не переходит в теоретические высказывания о природе Церкви. Но именно благодаря этому она защищена от односторонности. Таков был основной смысл высказываний Бернарда о власти папы. Она - истинная potestas и авторитет, но она не должна подменяться “господством” (dominatus): эта власть есть служение и попечение, функция служащего и раздающего управителя, но не господина. Ее смысл - не в одном лишь самоутверждении, но в конкретной действенной и полезной “службе”: dispensatio; ministerium; “возглавлять, чтобы помогать”. Существуют некоторые полномочия, используемые сегодня папой в области права, которые он не может иметь от Петра, потому что тот сам ими не обладал; иные из них папа унаследовал от Константина и Юстиниана, не от Петра. Не скипетр или знаки императорского достоинства Константина, но жезл пророка Иеремии - вот подходящий символ папской власти. г) Еще с большим вниманием относится Бернард к внутрицерковной власти папы, когда защищает от нее авторитет епископов: они также являются представителями Христа и их юрисдикционная власть исходит непосредственно от Бога. Папа не есть их “dominus”. Ущемление или отстранение поместных носителей власти внутри церковной иерархии Бернард расценивает как ложное (“erras”) и опасное преувеличение. Отсюда он переходит, несмотря на принципиальное признание объединения под властью папы, к настойчивой критике чрезмерного централизма. При этом он прежде всего имеет в виду институт экземпции, который посредством принципа непосредственного подчинения папе недальновидно стремится к усилению полномочий центра в ущерб всей органической структуре церковной власти. Эта охватившая широкие церковные круги экземпционная “лихорадка”, которая заставляет аббатов искать свободы от своих епископов, епископов - от митрополитов и примасов, в действительности не может усилить центральную папскую власть, но, напротив, приводит к искаженным формам, которые Бернард выразительно называет монстром. С этих же позиций он критикует чрезмерно развившуюся систему апелляций. Она препятствует папству в выполнении его основной задачи, увеличивает правовые злоупотребления и наносит ущерб местной власти. Понятие Церкви, лежащее в основе всех этих идей, представляет резкий контраст с тем, которое содержит в себе реформа Григория. Церковь для Бернарда - вовсе не только civitas Dei или “Небесный Иерусалим”, населенный бесчисленны ми святыми, отделенными в своей непорочной чистоте от corpus diabolicum [диавольского тела] злого мира, т. е. орудие благодати и спасительное учреждение, поставленное в качестве посредника между Богом и миром, как то считали клюнийцы. У Бернарда сохранен образ странствующей Церкви, которая как сообщество верующих и борющихся за совершенство душ не может быть совершенно чистой во время своего странствия. Он знает о том присущем Церкви напряжении, которое является результатом продолжения Воплощения. Ведь общность верующих с Воплощенным Словом до тех пор пребывает в тени уничижения и сокрытости, покуда единение в “плоть едину” еще не созрело до союза “в едином Духе”. Поэтому Бернард сравнивает Церковь с невестой из Песни песней, которая черна и одновременно красива (Песн. 1, 4), или с сетью, захватившей и хороших и худых рыб (Мф. 13, 48). Важное значение критики Бернарда состоит в том, что (1) она неколебимо признает авторитет Церкви, т. е. свое послушание иерархии и зависимость от нее, и что (2) она объективно представляет духовную точку зрения, не опровергая “плотскую”, действительную реальность Церкви и тем самым не впадая в спиритуализм. Немаловажно, что мы находим у Бернарда едва ли не все аргументы, которые затем будут выдвигаться против Церкви (но со спиритуалистической односторонностью) формирующимися тогда еретическими движениями. 6. а) Также и в основном вопросе борьбы за инвеституру, в вопросе о соотношении Церкви и империи, папы и императора Бернард более точно разделяет эти две области, чем это делали творцы григорианской реформы. Действительно, что значит для него “учение о двух мечах?” Во всяком случае, не надо интерпретировать его как иерократическо-политическую теорию (Congar). Бернард остается верен идеалу внутреннего союза между царством и священством, в котором выражается связь функций каждого из них во Христе; обе эти власти должны вместе, поддерживая друг друга, приносить плоды мира (царство) и спасения (священство). Но у Бернарда отчетливо проявляется понимание как своеобразия каждой из этих двух сфер власти, так и опасности, которую несет в себе их смешение. Он ставит императора на место, когда тот возобновлением требования светской инвеституры угрожает завоеванной libertas и независимости церковной жизни; с другой стороны, он отвергает и вторжение Церкви в мирскую сферу. Григорий VII из власти Церкви над духовными вопросами выводил ее юридическую власть над светским и временныvм. Бернард из принципиально признаваемого соотношения уровней делает практически обратный вывод: превосходство духовного над светским просто не допускает никаких сравнений; высокое достоинство и важность проистекающих из него задач, запрещают заниматься низшими вопросами; у мира есть собственные пастбища, на которых Церковь не вправе собирать урожай (De consideratione I, 6, 7). б) В том, что касается более детального определения согласования двух властей, Бернард, несомненно, является сыном своего времени. Как показывает его позиция по отношению к крестовым походам и к подавлению еретиков (§ 52, Арнольд Брешианский), для него, само собой разумеется, что мирская власть должна своими средствами способствовать защите Церкви от несправедливости. И наоборот, папа имеет право не только на “духовный меч”, которым владеет сам, но и на меч “материальный”, который рыцарь по приказу императора применяет для защиты Церкви. Но некоторую попытку их различения Бернард все же делает. По его толкованию, слова Господа (Ин 18, 11): “Вложи свой меч в ножны”, надо принимать всерьез, т. е. Церковь как таковая не имеет права пользоваться мечом, это принадлежит компетенции “государства”, которое вовсе не лишается своей автономности оттого, что по “приказанию священника” должно браться за меч, когда речь идет о защите и восстановлении данного Богом порядка. Именно поэтому у Бернарда вершителем деяний меча всегда называется только “populus christianus” [христианский народ] и никогда иерархия. Притязания папы на светскую власть и, соответственно, включение “государства” в “Церковь”, не находят никакого обоснования в произведениях Бернарда. Эти основные установки совпадают, впрочем, с позицией, занимаемой Бернардом в практических ситуациях - в бесконечных церковно-политических конфликтах, в которые святой постоянно оказывался вовлеченным. в) Идеей разграничения церковной и светской власти Бернард указал единственно возможный путь к разрешению рокового вопроса средневековья; но мы, конечно, должны заметить и то, насколько несовершенным и зависящим от образа мыслей своего времени было его понимание согласия Церкви и государства. Сложность этой проблематики раскрывается не в последнюю очередь в признании Бернардом допустимости “священной войны”! Глубина его проповеди Креста вступает в трудно объяснимое противоречие с несколько поверхностным отождествлением “Крестного пути” с вооруженным крестовым походом. С другой стороны, именно позиция Бернарда удерживает нас от поспешного осуждения крестовых походов. Для истории Церкви имеет огромное значение то, что святой такого ранга, как Бернард, монах, живший исключительно для Церкви и в отречении от мира, не уклонялся от тех проблем и начинаний, которые, в конечном счете, должны были служить христианскому устройству мира. 7. а) Бернард был одарен необыкновенной силой письменного и устного слова и стал благодаря этому едва ли не самым значительным представителем гуманизма XII в., имевшего такое значение в истории Церкви. Он искусно использует гибкость и выразительность латинского языка, так же как и присущую ему ясность формулировок (при этом нельзя не видеть, что некоторые его вступления или нагромождения полемических аргументов - не более, чем риторика). Нужно только четко уяснить себе, что именно включало в себя понятие “гуманизма” для такого человека, как Бернард. Когда мы подумаем о его жесточайшей аскезе и суровом отречении от мира, сначала кажется, что для такой вещи, как гуманизм, в нем просто не остается места. Но здесь мы снова сталкиваемся с поразительной силой творческого синтеза. Бернард представляет нам доказательство того, что аскеза, смиряющая человеческое начало, приносит не оскудение, но обильный плод. Косвенное воздействие его аскезы привело к возникновению возвышенных мирских ценностей в различных областях человеческой деятельности. В этом отношении характерно то положение, которое занимает в мистике Бернарда тело: с одной стороны - это земной бренный сосуд, препятствующий восхождению духа, совершенствованию любви, а тем самым и единению с Богом; но, с другой стороны, в нем совершается процесс преобразования и очищения, который когда-нибудь завершится Воскресением и в нем - соединением души с преображенным телом. Заметная враждебность Бернарда к культуре (к искусству клюнийцев), его отвержение науки действуют поэтому не разрушительно, но очищающе и творчески. б) В Бернарде говорила высочайшая форма гениальности - святость, соединившаяся в нем с силой ума и воли, что ставит его в один ряд с людьми великой силы духа и характера, с самыми одаренными деятелями истории. Когда он на Рейне проповедовал Второй крестовый поход, лишь немногие понимали его чужестранную речь. Но весь его облик был проповедью и оставлял неизгладимое впечатление. Его тайна заключалась в способности привязывать к себе людей - через излучаемое им взволнованное вдохновение и через его “устрашающую сверхчеловеческую властность” (как это названо в его жизнеописании). Его жизнь содержит немало примеров насилия над душами тех, кого он хотел приобрести для воплощения монашеского или церковного идеала. Его жестокость - не проявление неуправляемых инстинктов, но выражение необъяснимого естественными причинами пророческого дара. Бернард был прежде всего человеком любви. Нужно только ближе всмотреться в ее пламя, чтобы наполнить это слово своеобразием и силой, приданными ему Бернардом: подлинно материнская и творческая любовь, влекущая, как магнит, но если нужно - не боящаяся применения жестких мер. Ведь эта любовь, в которой живет преизбыток чувства, управлялась героической волей, требовавшей от себя крайней степени послушания, самоотречения и смирения, которая многих приводила в ужас и одновременно притягивала и воспитывала десятки тысяч людей. В служении Царству Божию эта воля, как и у Григория VII, была наделена могущественной и властной силой, которая проявлялась во всем облике и покоряла людей. В сущности, это было не что иное, как движущая горами, исполненная харизмы вера, данная человеку необычайной силы. в) Эта сила и это самосознание с внутренней неизбежностью привели Бернарда к общественной церковно-политической деятельности: человек созерцательной молитвы, чистейшей духовности, бегущий мира, стал также и человеком, больше всего сделавшим для изменения мира, человеком, великие дела которого повсюду видны и везде имеют огромное влияние: Бернард - вождь и судья своего века. В нем раскрывается историческая сила ухода от мира. Однако и он, как раз на высшей точке своей общественной деятельности, а именно, в крестовых походах, на редкость глубоко вовлечен в трагедию несовершенства человеческих планов и человеческого понимания планов Божиих (§ 49). г) Бернарда упрекали в демагогии. Но был ли он оратором-демагогом? Был ли он вовлечен в политику слишком глубоко? Не доходит ли противоречивость в его высказываниях до лжи? Нужно признать, что внешняя сторона поведения святого наводит на подобные мысли. В жизни великого Бернарда также присутствует свойственное человеку убожество. Но суть этого человека определяется такой силой и глубиной, которые в своей значительной части не поддаются рациональному осмыслению. Поверхностные суждения грозят заслонить собой эту суть. 8. Для Бернарда, как для всех католических святых, само собой разумелось, что человек не может совершить ничего необходимого для спасения, иначе как будучи в благодати и через благодать. Тем самым он признавал, что человек греховен и остается таковым. Все его деяния - ничто перед Богом. Этот взгляд он исповедует часто, и часто с большой резкостью, что сближает его с реформаторами XVI в. В этом - и только в этом - смысле он признавал бесполезной и монашескую жизнь. Но при всем том всю свою жизнь до самого конца он требовал от себя, от монахов, от христиан вообще непрерывного соучастия в деле спасения: “Если ты не двигаешься вперед, ты уже отступаешь назад”. Высшую форму христианского бытия он видел в монахе, избегающем мира и живущем в монастыре, следуя уставу св. Бенедикта в его очищенном реформой варианте. Лютер, почитавший этого святого больше, чем кого-либо другого в Церкви (не исключая Августина), в этом вопросе понимал его совершенно превратно. 9. Итак, св. Бернард является во многих отношениях выразителем католического синтеза: бегство от мира и преобразующая мир сила (внутреннее - внешнее); первично личностная жизнь, но целиком и полностью коренящаяся в объективной Церкви и в ее католичности ценностей (субъект - объект; индивидуум - общество); высшая святость, соединенная с подлинной, полнокровной человечностью (смирение - самосознание). Особенно в этом, названном последним, виде синтеза св. Бернард демонстрирует (возможно, ярче, чем все другие святые), насколько безжизненный, бескровный образ, иногда близоруко приписываемый Церкви в качестве идола, жалок рядом с силой и богатством истинной католической святости. Такой синтез не имеет ничего общего со спокойными поисками гармонии; он - тяжкое бремя для того, кто его осуществляет. Сам Бернард, жалуясь на многогранность своей натуры, заставлявшей его страдать, нашел ценную формулировку: “Я - химера века”. Он необычайно сильно был вовлечен в церковную политику и борьбу богословов и монахов, можно сказать, всего Запада. Много лет он словно бы не монах, скитался по улицам городов и рекам Европы; но уединение, самоумерщвление и молитва оставались его главной страстью. |